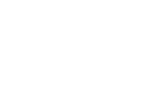Оксана Бенедиктовна Гордеева

Оксана Бенедиктовна Гордеева (Шкандрий) - выпускница филологического факультета ИГУ 1991г года. Преподаватель русского языка и литературы, журналист. В данное время работает в редакции детского журнала "Сибирячок".
Слово о любимом учителе
Эти воспоминания для меня – запоздалая попытка сказать спасибо моему дорогому и любимому учителю. По прошествии долгих лет ничего, кроме благодарности, я не испытываю к Владимиру Фадеевичу Мейерову. Пожалуй, еще и острое чувство вины сегодня примешивается к моей благодарности, ведь я не сказала при жизни Владимиру Фадеевичу, как много он для меня значил. Его большого сердца и доброй души хватало на всех нас – его учеников. Он любил нас, как наставник и как учитель, мне же он на все годы учебы заменил и отца. Он совершенно искренне интересовался моими делами, увлечениями, он спрашивал, есть ли мне, где жить и что есть. В общем, те вопросы, которые он задавал мне, должен был бы задавать родной отец, но его уже не было рядом. Я до сих пор считаю, что появление Фадеича в моей жизни было промыслом Божиим, редкой удачей и везением. Если бы в моей студенческой жизни не было такого преподавателя, как Владимир Фадеевич, годы учебы в университете потеряли бы для меня всякий смысл. Мне и сегодня жаль тех студентов, которые учатся на филологическом без Фадеича.
Рассмешить Фадеича

Я иду рядом с Владимиром Фадеевичем Мейеровым мимо здания филологического факультета, мимо старой ограды и черной чугунной решетки, которая отделяет от дороги церковь Святой Троицы (до 1986 года здесь был расположен городской планетарий). Лето. Вечернее солнце ласково гладит листья кленов и тополей. Настроение у меня – самое умиротворенное. День догорает, солнце золотит листву кленов, да и наши подготовительные курсы подходят к завершению. Владимир Фадеевич – преподаватель этих курсов, он только что читал нам лекцию по орфографии. Я чуть-чуть дольше всех задержалась, и он попросил меня пойти с ним до остановки. Я согласилась -- отчего бы не пойти? Мне он кажется почти стариком. Хотя в то время мне, семнадцатилетней девице, даже тридцатилетние казались престарелыми. На нем был серого цвета строгий костюм, на носу – очки, высокий лоб переходит в залысины, в руках видавший виды потертый рыжеватый портфельчик с поблескивавшей пряжкой, в которой отражалось закатное солнце. Но я сразу каким-то шестым чувством почувствовала, что в этой заурядной, как мне казалось тогда, внешности кроется какая-то неразрешимая загадка. По-моему, этот человек вовсе не так прост, каким кажется на первый взгляд.
-- Ну, и почему вы решили поступать на филологический факультет? – отрывает меня от моих мыслей его громкий, четко поставленный голос.
-- Я? От отчаяния, -- вздохнув, искренне признаюсь я.
Он начинает смеяться. Смеется неожиданно громко – на всю пустынную в этот вечерний час улицу Чкалова. И очень-очень заливисто, как умеют смеяться только дети. Я смотрю на него во все глаза. Мне комичность ситуации непонятна. В семнадцать лет так много трагедий! И мне моя история кажется очень серьезной. Отсмеявшись, преподаватель подначивает меня:
-- Ну-ка, ну-ка, расскажите-ка мне про свое отчаяние.
-- А вам это интересно? – чуть обиженно спрашиваю я.
-- Очень! – глядя на меня смеющимися глазами, уверяет Фадеич.
-- Только это долгая история, -- говорю я, глядя на дорогу, которую нам предстоит перейти.
-- Ничего-ничего, я никуда не тороплюсь, -- благосклонно отвечает Мейеров.
И я начинаю издалека. Как началась война в Афганистане, как сразу же везде и всюду – на радио и на телевидении, во всех газетах и журналах стали рассказывать о героизме наших воинов, выполняющих свой интернациональный долг в чужой стране. И как наши мальчишки почти все собрались воевать в Афганистане. И как я подумала: «Ну чем я хуже их? Разве я смогу отсиживаться дома, за студенческой партой, когда они будут там рисковать жизнью? И кто-то из них даже погибнет? Нет, я просто обязана поехать на войну!» Но кем могут взять девчонок? Только медсестрами! И я осенью 1985 года записалась на подготовительные курсы в мединститут.
-- Я целый год ходила в мединститут на подготовительные курсы, учила физику, химию и биологию, -- рассказываю я Фадеичу, а он слушает, не перебивая. – Научилась решать задачи и по физике, и даже по химии, хотя органическую химию я плохо понимаю. Пока училась, успела подружиться с учительницей химии. Идем как-то вечером вот так же с ней после занятий, она меня и спрашивает: «А зачем тебе, Оксана, мединститут? Ведь химия, как я заметила, не самый твой любимый предмет?» Я ей честно отвечаю: «Хочу в Афганистан попасть. Медсестрой!» Она искренне удивилась: «И зачем это тебе? Жить надоело?» Я стала ей горячо доказывать, как мне это остро необходимо! Как наши мальчишки туда пойдут воевать. «Ну, послушай, наивный ты человек! – сказала учительница. – Ведь тебя сразу никто в Афганистан не возьмет! В лучшем случае – после третьего курса!» -- «Ка-а-ак не возьмут? А после третьего курса уже война кончится!» -- поразилась я. – «Очень может быть, что и кончится эта война, -- ответила она. – И как же тебе тогда быть?»
Я честно призналась, что врачом себя в мирное время я вообще не вижу. Никаким вообще. И если не в Афганистан, то никуда иначе я не поеду медсестрой. Я очень расстроилась. Просто в одночасье рухнули все мои планы и мечты, которые грели меня весь этот год, пока я упорно учила химию и физику, решала бесчисленные задачи по химии, физике и биологии, которые мне, в общем-то, были не по душе. Чтобы хоть как-то влюбить себя в эти предметы, я читала журналы «Химия и жизнь» и «Наука и жизнь», которые многие годы когда-то выписывали мои родители. Я, конечно, на пять бы сдала эти предметы. Но душа к ним у меня не лежала.
-- Ты знаешь, я тоже заметила, что химия – не твой конек, -- сказала учительница. – Зачем же ты себя ломаешь? Выбери то, что тебе по душе. Ведь тебе потом с этой профессией всю жизнь придется жить! Даже с мужем можно развестись, а из профессии уйти почти невозможно, если на нее потрачено столько сил и времени.
Я крепко задумалась. В самом деле, зачем мне этот мединститут? Решила, что не пойду туда. И как будто гора с плеч упала.
-- Ну и? – спросил Мейеров. – Ты сразу пришла в университет, на филологический факультет?
-- Я? – переспросила я. – Ну, нет же, конечно. Я пошла в училище искусств поступать на художественное отделение. Я еще в восьмом классе окончила художественную школу. И на выпускных экзаменах к нам пришел преподаватель училища, художник Лев Гимов. Просмотрев все выставленные нашим выпуском работы, он сказал: «Я беру в училище на свой курс без всяких экзаменов двоих!» И показал на меня и на Виталия Пальвинского. Виталик сразу поступил и учится уже два года. А я подумала-подумала и не пошла в училище искусств, потому что очень любила свою школу, своих одноклассников, своих учителей. Мне было так трудно расстаться с ними, что я решила еще два года поучиться в школе. Ну, а когда решила все же сдавать экзамены в училище, сдала их неважно: живопись, рисунок и станковую композицию сдала на четверки. А надо было на отлично. Увидев свои оценки, я с ужасом поняла, что могу не пройти по конкурсу, и целый год пропадет зря. В серый дождливый летний я, обливаясь слезами, забрала свои рисунки и пришла… в университет.
-- От отчаяния? – спросил Мейеров, лукаво на меня поглядывая.
-- Конечно, -- вздохнула я. – Отчего же еще?
-- Ну, а если ты и сюда не поступишь? – отсмеявшись, спросил он.
-- Кто? Я не поступлю?! На филологический факультет??? Ну, вы скажете тоже, -- самоуверенно фыркнула я. – Да у меня по русскому и литературе ни разу в жизни четверки за четверть не было. Не то, что за год! Всегда одни пятерки. И я – да не поступлю? Да такого просто не может быть!
Мейеров снова расхохотался. Он заливисто смеялся, переложив портфель в левую руку, а правой вытирая слезы. Потом сказал:
-- Знаешь, что я почему-то очень хочу, чтобы ты к нам поступила. Я люблю таких по-хорошему сумасшедших людей. Их у нас на факультете не так много, как хотелось бы. К сожалению, меня не будет в этом году в приемной комиссии, я уезжаю в отпуск сразу после подготовительных курсов. Но я очень надеюсь, что осенью мы с тобой увидимся.
-- Будьте в этом совершенно уверены! Никуда я не денусь – поступлю, вот увидите! – заверила я его. И он снова рассмеялся каким-то совсем детским, заливистым смехом.
Я подумала, что не такой уж он старый, каким показался мне в самом начале. А очень даже милый человек. И смеется так заливисто, так беззаботно, что сразу становится похожим на мальчишку. Я тогда не знала, что пройдет совсем немало времени, и от моей самоуверенности не останется и следа. А сама фамилия Мейеров будет вызывать у меня панический страх и ужас. И, вместе с тем, и любовь, и безграничное уважение, конечно.
Открытие
Встретились снова мы первого сентября, когда я поступила и пришла на занятия.
-- Очень, очень рад тебя видеть! – сказал Мейеров на ходу, торопясь в аудиторию. Меня даже несколько обидело такое обращение – на бегу, на ходу. Я-то наивно полагала, что мы уже друзья…
Но обида моя сменилась восхищением. На первой же лекции Владимир Фадеевич с упоением читал нам поэму «Зодчие» Дмитрия Кедрина. Поэма просто потрясла меня. Каждая ее строчка вызывала картины Древней Руси: я видела, например, как живую, и «непотребную девку с бирюзовым колечком во рту», и мастеров, которые «ремешками стянув волоса, кирпичи понесли на леса», и саму церковь. И грозного несправедливого царя, который приказал ослепить зодчих. Я впервые открыла для себя гениального русского поэта Дмитрия Кедрина, которого мы совсем не знали – его творчество не изучали в школе. А фигура Мейерова в моем воображении неожиданно выросла до самых небес. Я уже не замечала ни его потертого старого портфеля, ни старящих его очков, ни его залысин, ни чуть полноватой фигуры… Ничего, что сковывало или как-то принижало бы его образ, его глубокую, сильную, большую душу, больше для меня не существовало. Передо мной стоял Учитель, чьи ноги твердо вросли в землю, а голова задевала облака. Я с удивлением отметила, что никакого панибратства отныне позволить себе не могу. Зато опять в конце первой лекции Владимир Фадеевич сказал:
-- А вы немного задержитесь. Вместе пойдем на остановку.
Мы снова шли вместе. Но меня уже сковывал благоговейный страх перед личностью человека, которого, как оказалось, я совершенно не знаю. Мы шли и молчали. Но мне все равно было приятно сознавать, что он относится ко мне хотя бы чуточку не так, как к другим. Я тешила себя мыслью, что как будто бы чуть-чуть дольше его знаю. На целый месяц дольше!
Ее величество орфография
Потом начались наши лекции и практические занятия по орфографии. Мы написали диктант, я открыла свою тетрадь и увидела длинношеее животное – огромную красную двойку. И не поверила своим глазам! У меня ведь никогда в жизни не было двоек за диктанты! И только несколько лет спустя Мейеров раскрыл мне свой учительский секрет. Я уже преподавала в школе, у одиннадцатого класса, и он мне дал ценный совет: «Знаешь, ты дай им на первом уроке такой трудный диктант, чтобы они не могли с ним справиться. Они ведь поначалу будут смотреть на тебя свысока. Ты ведь им почти ровесница. И они все гордецы и снобы, ведь они уверены, что уж русский-то они прекрасно знают, на пять с плюсом. Вот ты им и докажи, что в этом предмете еще столько тайн, что хватит надолго!» И я сразу вспомнила все его чуднЫе диктанты, где слово «песчаный» соседствовало со словом «вощаной» и «дощатый», «веснушчатый» со словом «брусчатка», и все в голове сразу путалось, и ты начинал мучительно вспоминать правила, блуждать в трех соснах, впопыхах отыскивая правильную дорогу. Я потом только поняла, что он сам специально для первокурсников сочинял эти зверские диктанты, чтобы одним махом сбить с нас спесь. Ведь все поступившие, или, по крайней мере, большинство из нас, все школьные годы получали одни круглые пятерки по русскому языку. И вот – на тебе! Пятерки за первый мейеровский диктант из 85 человек были только у двоих – у Инессы Якушкиной и у Лады Степановой. Остальные им страшно завидовали, так как щеголяли огромными двойками и единицами. В том числе и я.
Ну, и что же было делать? Хочешь – не хочешь, а надо было браться за орфографию. А она никак не давалась. И фигура Мейерова в моих глазах становилась все больше и все значительнее. Как будто я смотрела на него в бинокль – мой учитель, словно Гулливер в стране лилипутов, все вырастал и вырастал, постепенно закрывая собой все небо. Я даже представить себе не могла, что этот строгий преподаватель совсем недавно, в августе, заливисто и беззаботно смеялся. По крайней мере, мне уже было совсем не до смеха.
Но я все-таки, несмотря на все свои страхи перед Фадеичем, умудрялась еще и лениться. Однажды я не выполнила упражнения из «КаКа» -- так Мейеров называл учебник Кайдаловой и Калининой. А Владимир Фадеевич в начале каждого практического занятия прогуливался между рядами, проверяя домашнее задание. Я тоже, как все другие, ничтоже сумняшеся, открыла тетрадь, где вместо домашней работы был девственно чистый лист. Мейеров двинулся дальше, и я уж было подумала, что гроза миновала и снаряды прошли мимо. Но тут вдруг почувствовала, как он крепко и довольно больно ухватил меня пальцами за правое ухо и немного приподнял над скамьей. А потом медленно и все так же молча посадил на место. При этом он не проронил в мой адрес ни слова! Никаких нотаций! Никто из моих однокурсников ничего не заметил, а ухо мое горело огнем! И я поняла, что уроки по орфографии все-таки надо делать. А то очень скоро превратишься в самую обыкновенную двоечницу.
… Тем более, что примеры были. Студентка третьей группы нашего курса, моя соседка по дому, веселая хохотушка, украинка с грозной фамилией Волкодав, никак не могла справиться с орфографией. Ничего удивительного в этом не было: ведь девушка окончила украинскую школу в Виннице и приехала сюда к тетке, чтобы поступить в университет. Поступила. А вот учиться ей было ужасно трудно. Я частенько делала за нее все упражнения по КК, которые нам задавали на дом. Но она часто пропускала занятия, потому что любила по утрам поспать. А на зачет по орфографии она и вовсе пришла… с загипсованной рукой. Причем, было это так: сначала приоткрылась дверь и в проеме показалась …. бриллиантовая рука. Потом, выдержав паузу, в аудиторию робко протиснулась и сама Света.
-- Уолкодау! – громко сказал Мейеров. – Попрошу вас больше не опаздывать на мои занятия! Вы и так прогуляли и проспали половину семестра.
Владимир Фадеевич иногда не выговаривал «В», и даже эта его особенность вызывала у меня восхищение – он был не таким, как все. Тем временем, Света села впереди меня и тут же попросила меня сделать ее вариант и передать ей. Я еще не успела сделать свой и честно шепотом призналась ей, что пока не могу ей помочь.
-- Уолкодау! Я выгоню вас обеих! Обеим поставлю двойки, если услышу ваши перешептывания! – строго прикрикнул Мейеров, глядя на нас поверх очков.
-- Владимир Фадеевич! – робко, чуть не плача, сказала Светлана. – У вас есть брат?
-- Брат? Зачем вам понадобился мой брат? – искренне удивился Фадеич.
-- Ну, если у вас есть брат, то я бы лучше сдала ему зачет по орфографии. А то я вас очень боюсь! – опять-таки чуть не плача, сказала Света.
Да, как бы это смешно ни звучало, но похожие чувства испытывала и я. Хотя мне удавалось исправить двойки на четверки и пятерки, орфография давалась мне с трудом, потому что я… боялась Фадеича. Я боялась выглядеть перед ним глупой, безграмотной и невежественной. Учила правила, но они предательски путались в моей голове, стоило мне переступить порог его кабинета. Однажды он спросил меня, как будто между прочим:
-- А как относятся ко мне ваши однокурсники?
-- Они все вас боятся, -- спокойно и совершенно искренне ответила я.
Это произвело на Мейерова ошеломляющее впечатление. Он никак не мог поверить в то, что его можно бояться.
-- Я что, такой злой и страшный? Я люблю студентов, я не жалею для вас личного времени, я столько консультаций провожу, сколько ни один преподаватель на нашей кафедре не проводит. И вот – на тебе! Они ВСЕ меня боятся. Это ни на что не похоже! – кипятился Фадеич.
Но слова из песни не выкинуть. Мы панически боялись его строгого взгляда, его громкого голоса. Разозлить Мейерова своим недостойным поведением или неуважением к его предмету приравнивалось к самоубийству. Не избежала общей участи и я. На его практических занятиях я и вовсе предпочитала молчать. Боялась ошибиться. Даже то, что я в школе знала на пять, мне теперь приходилось учить заново. Все как будто стерли в моей памяти – голова моя была пустая и звонкая. Я благодарила Бога за то, что по орфографии был всего лишь зачет, а не экзамен. Сомневаюсь, что я сдала бы его на отлично. Так, уже на первом курсе Фадеич мастерски убедил всех нас в том, что русский язык – совершенно не знакомый нам предмет. И надо начинать заново учить все правила, позабыв о школьных лаврах.
Только сейчас, спустя почти три десятка лет, я понимаю, какой тяжелый крест водрузил на свою спину Фадеич. Об этом вслед за Блоком любил повторять труженик Корней Чуковский:
Работай, работай, работай:
Ты будешь с уродским горбом
За долгой и честной работой,
За долгим и честным трудом!
Я всегда сравнивала его рабочий день с днем других преподавателей и поражалась: все давным-давно разошлись по домам, а он все еще сидит у окна за своим рабочим столом и принимает зачеты по диктантам. А ведь эти диктанты, будь они неладны, он придумал сам! Он сам сочинял труднейшие тексты для студентов-оболтусов, чтобы они наделали десятки ошибок, потом прочитали и выучили правила, а потом еще и пришли эти правила ему рассказать. А нас, между прочим, на курсе было восемьдесят пять человек! И как же ему было не лень восемьдесят пять раз услышать правило о правописании частиц Не и Ни, к примеру? Потому что пятерок за его диктанты либо не было совсем, либо одна-две. И на КАЖДУЮ орфограмму он сочинял диктант. И терпеливо выслушивал наши ответы, принимал или не принимал (и это часто бывало!) нашу работу над ошибками. Преподаватель литературы отчитала лекцию и пошла домой со спокойной совестью. А потом пришла на экзамен и выставила ровной колонкой оценки. Как прочитали, так и прочитали, смогли воспользоваться шпорами или не смогли – это уж ваши проблемы. А у Мейерова экзамена по предмету не было! И зачет был недифференцированный – без оценки. А ведь мы готовились так, что правила от зубов отскакивали.
Теперь я понимаю, что он сократил свою жизнь ровно на 20 лет. Что, сделай он свою жизнь проще и легче, он жил бы припеваючи. В конце 80-х он переехал из тесной двушки в большую и просторную квартиру на улице Ленина. У него была прекрасная жена, отличная кулинарка, хорошая мать. Они воспитали двух дочерей – Юлию и Людмилу, которые тоже создали семьи и подарили им внуков. Казалось бы, выйди на пенсию и смотри день-деньской телевизор. Но для Фадеича жизнь в четырех стенах была смерти подобна. Жизнь без преподавания и была для него смертью.
-- Знаешь, моя Людмила уехала в Израиль. Сначала не могла найти работу по своим возможностям и талантам, а потом нашла прекрасную работу – она связана с московскими и питерскими артистами, заключает контракты, устраивает им гастроли. И очень довольна своей жизнью! И меня постоянно зовет к себе, -- говорил Мейеров.
-- А вы что же, не хотите уехать к дочери? – недоумевала я.
-- Ты сама посуди: кому я там нужен со своим русским языком? Я – преподаватель русского языка, это моя профессия. И без нее я не представляю своей жизни! – абсолютно серьезно отвечал Фадеич.
И я с ним совершенно согласна. И еще более согласна теперь, когда его уже нет с нами. И пусть звучит это жестоко для нас, обывателей, но мы живем не для того, чтобы выпить энное количество жидкости и съесть энное количество еды. Смысл жизни даже не в том, сколько денег ты смог заработать и в каких странах ты успел побывать. Как это ни странно, смыл человеческой жизни оценивается по тому, сколько полезного для всего человечества ты сумел сделать. Какой след в душах людей ты оставил.
Ни для кого не секрет, что Фадеич жил и работал в 90-е, когда зарплата университетского преподавателя была одной из самых низких. А еще он мне частенько повторял: «В школе нельзя зарабатывать деньги! Ни в коем случае! В школе надо УЧИТЬ ДЕТЕЙ!!!» И я теперь только понимаю, что это относилось не только ко мне, но и к нему. Он говорил о себе. Тем более, он не имел высокого звания – не был профессором или академиком. Он жил в то же самое время, что и мы: он видел пустые полки в магазинах, он ходил по тем же улицам. И все же он НЕ ПОЗВОЛЯЛ себе халтурить. Много было таких преподавателей, которые отчитали свои лекции, отвели свои часы и ушли домой. И трава не расти! А Владимир Фадеевич Мейеров не давал спуску ни себе, ни другим. И он выполнил свою сверхзадачу: о Фадеиче будут помнить все те, кого он когда-либо учил. Целое поколение учеников и учителей будет помнить о нем до самой своей смерти.
Винни-Пух и все-все-все
Несмотря на то, что я не была в числе его любимых студенток (славы первых знатоков орфографии -- Лады Степановой и Инессы Якушкиной -- мне было не видать, как своих собственных ушей), Владимир Фадеевич все же обращался ко мне, если ему нужна была помощь. Например, однажды перед 8 марта он вызвал меня в свой кабинет, на кафедру русского языка.
-- Послушай, я знаю, что ты хорошо рисуешь, и у меня к тебе небольшая просьба. Ты не могла бы нарисовать на ватмане большую поздравительную открытку для женщин нашей кафедры? – спросил Мейеров. – Найди какое-нибудь подходящее стихотворение и подпиши -- «Ваши мужчины».
Меня поразило не столько то, что мне придется рисовать газету – я за время учебы в школе нарисовала их столько, что можно было обклеить все стены в моем доме -- сколько то, что Мейеров! Сам Мейеров! не считает меня ни женщиной, ни девушкой, ни вообще слабым полом. Он легко причислил меня к какому-то среднему роду, который может подписаться «Ваши мужчины».
-- Конечно, я нарисую, -- горько вздохнув, покорно сказала я и вышла из кабинета.
Всю дорогу я думала, как же мне показать ему, что я тоже – в некотором роде девушка? Женский род есть же в русской орфографии? Пусть бы дал задание нарисовать эту газету моим однокурсникам Алеше Стародубцеву или Вадиму Образцову. Ну, почему мне-то? Я пришла домой в расстроенных чувствах, взяла ватман и стала по мокрой бумаге акварелью задумчиво выводить ветки мимозы. Желтые пушистые шарики расплывались, создавая эффект объемного пространства. Рисунок получился хороший. И поздравление я написала яркими красками. Написала красивым почерком стихи, уже не помню, какие. Поздравление с женским днем. И подписала: «Ваши мужчины». И придумала! Я нарисую под подписью Винни-Пуха, который летит за медом на воздушных шариках, и пусть Фадеич задумается, стоит ли девушкам доверять такие поздравления. Утром я приклеила этот ватман на кнопки среди других объявлений на доске между вторым и первым этажами. На перемене меня встретил, чем-то встревоженный и явно разгневанный, Фадеич. И сразу земля ушла у меня из-под ног, когда он жестко упрекнул меня:
-- Если не хотела делать газету, так нечего было и браться!
«Он увидел Винни-пуха и все понял. Он обиделся! Нет мне прощения! И не будет мне пощады!» -- похолодев, подумала я, и душа моя ушла в пятки. А вслух я спросила:
-- А что случилось?
-- Как что? Где обещанная тобой газета? – испепелял меня взглядом через толстые стекла очков Фадеич.
-- Да вот же она, внизу висит, на площадке между вторым и первым этажами, -- я все еще была ни жива, ни мертва.
-- А я что сказал тебе вчера? На ка-фед-ре! На ка-фед-ре ее надо было повесить! – отчеканивая каждый слог и подкрепляя слова сложенными в щепотку пальцами правой руки, отчитал меня Мейеров.
И вдруг камень свалился с моей души! Эх! И только-то! На кафедре ее надо повесить! Он не обиделся на Винни-Пуха. А газету я сейчас мигом сниму и приклею там, где нужно. Ура! Лишь бы только он не злился на меня!
Плавание обречено на успех
На третьем курсе нам надо было выбрать себе преподавателей, которые станут руководить нашими дипломными работами. Признаюсь честно, выбор был огромный! Наши преподаватели на филологическом факультете отличались глубокими знаниями и почти все из них (за редким исключением) с большой любовью относились к нам, старшекурсникам. Конечно, я ни за что не пошла бы в дипломницы к преподавателю советской литературы. Ни за какие коврижки! Хотя ее фамилия в переводе с украинского звучала как «нежная», ничего нежного и хрупкого не было в этой пожилой даме с тонкими поджатыми губами. Выражение ее лица менялось от пафосного к презрительному и уничижительному. Я не могла себе представить, что она умеет смеяться. На своих лекциях она открыто заявляла, что она – любимый учитель Александра Вампилова и Валентина Распутина. Что касается Валентина Григорьевича, то я вполне могла допустить, что он уважал ее, как критика и как преподавателя. Но мне с трудом верилось, что Александр Вампилов, автор бесподобной «Истории с метранпажем» и «Старшего сына» мог быть среди поклонников столь унылой личности. Однажды Мейеров строго отчитал меня за то, что я посмела пойти на конфликт с этой «нежной» преподавательницей.
-- Ты что, с ума сошла? Она со свету тебя сживет теперь! – ругал меня на кафедре русского языка Фадеич. – Иди немедленно и проси у нее прощения. Ты не знаешь, насколько это злопамятный человек! Я с ней работаю бок о бок десятки лет, и я знаю, как она годами пьет кровь из взрослых преподавателей. А ты – кто ты такая, что вступаешь с ней в споры? Студентка! Мелюзга! Она проглотит тебя, как лягушка глотает муху или комара, и не подавится.
-- Не буду я просить у нее прощения, еще чего не хватало! Она не любит Пастернака, а мне он нравится, и что – отчислить меня за это? – упиралась я.
-- А что же ты хочешь – уйти с четвертого курса? – строго спрашивал Фадеич.
-- Да нет, я пойду сейчас в деканат и попрошу, чтобы у меня принимал экзамены по советской литературе кто-нибудь другой, -- нашла я выход.
-- Тогда иди немедленно, пиши заявление на имя декана Даниленко, чтобы экзамен у тебя принимала специально созданная комиссия. Пока она не составила на тебя рапорт, что ты прогуляла ее занятия и должна быть отчислена за пропуски. Поверь мне на слово, я знаю, что это за человек, она шкуру с тебя спустит, проглотит и не подавится, -- серьезно гневался Фадеич.
А дело было в том, что однажды я не согласилась с ее мнением на практическом занятии. Обычно она «разбирала» творчество советских писателей по парам: в паре один был гением, а второй – негодяем. Причем, выбирать, кто гений, а кто негодяй, предстояло самим студентам. Я помню, что в тот раз пара была такая – Владимир Маяковский и Борис Пастернак.
--А кого любит Тында -- Пастернака или Маяковского? – тревожно спрашивали все друг у друга перед практическим занятием.
У Маяковского я любила множество стихотворений: они были энергичными и лирическими в одно и то же время. У Бориса Пастернака мне нравилась «Рождественская звезда», которую я выучила специально к этому занятию. Но, как оказалось, на роль негодяя наша «Нежная» выбрала именно Пастернака.
-- «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» -- спрашивает этот, с позволения сказать, поэт! – презрительно скривив тонкие губы, обвиняла «Нежная». -- Он даже не знает, какое время на дворе, он им не интересуется! Не таков Маяковский, который сердце свое бросил на площади -- под ноги революции! А вот у Пастернака робкое сердце и вялая душа, поэтому у него нет ни одного запоминающегося стихотворения!
-- Ну, это ваше личное мнение, -- не выдержав, сказала я с первой парты.
-- Что? Что вы сказали? Ну, назовите хотя бы одно стихотворение, которое достойно нашего внимания! – презрительно глядя на меня, сказала она.
-- «Рождественская звезда»! «Стояла зима, дул ветер из степи…» -- начала я рассказывать стихотворение, но не тут-то было. «Нежная» прервала меня:
-- А вы вообще сидите и молчите!
-- Может быть, мне вообще выйти из аудитории? Зачем же я буду сидеть здесь битый час и молчать? – ответила я и вышла. И больше не была ни на одном практическом занятии по русской советской литературе. Когда Мейеров узнал об этом, он страшно разгневался! Он сразу понял, что еще немного и меня отчислят за пропуски. Но все обошлось. Я написала заявление в деканат, с «Нежной», видимо, переговорили, и она допустила меня к экзамену. И даже поставила мне «отлично», но она мне уже была совсем не интересна. Она олицетворяла для меня зло в чистом виде. У Мейерова никогда не было злобы ради злобы и гнева ради гнева. Он боролся за каждого студента, каждого из нас он пытался любой ценой (часто ценой своего собственного здоровья) сделать отличным филологом. Да, из-за него отчисляли студентов, но они были виноваты в этом сами: прогуливали лекции, не ходили на занятия, просто мотали нервы преподавателю. А «Нежная» вела «высокоидейную» войну всех против всех, вовлекая в свое мракобесие совсем еще юные, неокрепшие души студентов. И это отвращало от ее лекций и ее «практических» занятий.
… Однажды я пришла в Крестовоздвиженскую церковь на исповедь. Очередь к аналою была длинной, вилась по храму и оканчивалась у самого входа в придел. Вдруг в храм вошла наша Тында. Она шла, осторожно переступая ногами, как будто не зная, как встать и как себя здесь вести. Она настороженно разглядывала очередь, пытаясь вычислить знакомых. Таковых не оказалось, и она успокоилась. И вдруг она увидела меня! Покраснев от кончиков ушей и до кончиков пальцев, она бросилась к выходу. Она, видимо, пока не могла примирить свою любовь к революции с любовью к Богу. Или не хотела, чтобы кто-то подозревал ее в вере в Бога… Мне стало смешно. А Мейеров удивительно просто ответил мне на мой вопрос, верит ли он в Бога:
-- Ты знаешь, наверное, Бог есть. Но я Его не видел.
Это было честно, по крайней мере. И вызывало уважение.
…Итак, на написание диплома я могла пойти к Лидии Андреевне Азьмуко – одному из самых сильных преподавателей зарубежной литературы, или к Юлии Иосифовне Кашевской – прекрасному преподавателю русского. Можно было пойти к Марии Алексеевне Серышевой, и к Марине Борисовне Ташлыковой или к Наталье Васильевне Баландиной, к Татьяне Аркадьевне Чернышовой или к Анне Петровне Селявской. Ни одна из них, я была уверена в этом, не отказала бы мне, я училась хорошо. Но в один прекрасный день меня осенила мысль: надо идти к Фадеичу! Пусть я совершенно не горю языкознанием и на меня наводит скуку орфография, где все давно распределено и открыто. Но, ведь если Владимир Фадеевич не возьмется за меня, то я никогда не смогу стать знающим специалистом. Словом, я решила: только он может сделать из меня человека. Я – очень неорганизованная, весьма расхлябанная и разболтанная, совсем не дисциплинированная и довольно ленивая. «Мне нужен только Мейеров! – сказала я себе. -- Он и никто другой! Если он не возьмет меня к себе, я не буду писать диплом».
С тревогой я постучалась в его кабинет. Фадеич, как обычно, сидел в кабинете русского языка справа за своим столом у окна, и что-то писал. Я оторвала его от занятий своей напористой просьбой – взять меня в дипломницы.
-- Ты знаешь, я решил в этом году вообще не брать никаких дипломников. Они мне все надоели хуже горькой редьки, и я так устал от них! Поэтому, даже не проси: с вашего курса дипломников я брать не буду, я решил в этом году отдохнуть, – признался Владимир Фадеевич, глядя на меня на самом деле грустными и усталыми глазами. А я, честно говоря, думала, что Мейеров, как стальной ротор машины, работает всегда без устали, без выходных и праздников.
-- Если вы меня не возьмете, я не буду писать дипломную работу! -- твердо сказала я в ответ. И стала упрашивать: —Пожалуйста, возьмите меня, Владимир Фадеевич! Вы не думайте, я не ленивая: я буду делать все, что вы скажете и в те сроки, которые вы поставите. Вам не придется краснеть за меня. Я твердо обещаю быть хорошей ученицей.
И случилось чудо -- Фадеич таки взял меня! Взял меня одну из всего нашего курса! Ур-р-ра!!! Я готова была танцевать танец с саблями – радость выплескивалась через край. Домой я летела, как на крыльях! Я ведь не знала тогда, что писать с Мейеровым творческую научную работу – все равно, что катить многотонный камень в крутую гору. Это адский Сизифов труд. Вся требовательность Фадеевича, весь тот напор, который держал в страхе и трепете весь курс, теперь обрушился на меня одну. Но в самом начале ничто не могло омрачить мою детски чистую радость!
Итак, работа началась сразу вскоре этих дипломатических переговоров. Мейеров обязал меня приходить каждую среду к нему домой, на улицу Аэрофлотскую. Его двухкомнатная тесная квартирка от пола до потолка была уставлена полками с книгами. Книги были везде – они были полными хозяевами в доме. Они царствовали здесь. Но приходить надо было не с пустыми руками.
-- Каждую среду ты будешь приносить мне ровно двенадцать листов текста. Не списанного из других книг плагиата, а своего собственного, авторского текста! Повторяю: своего собственного авторского текста, который ляжет в основу твоей будущей дипломной работы! – сложив пальцы правой руки в щепотку и потрясая ими передо мной, поставил условие преподаватель.
Я легко согласилась на эти условия. Спрашивается, чего же мне было бояться? Я была уверена на сто процентов, что с таким капитаном, как Владимир Фадеевич, наш корабль никогда не сядет на мель! Моя дипломная работа уже у меня в кармане – наше плавание обречено на успех!
Научиться ценить время
И каждую среду я приходила в панельный дом на Аэрофлотской, поднималась на второй этаж и приносила Фадеичу ровно двенадцать листов рукописного текста. Мейеров внимательно читал его, водрузив на нос сильные очки. А потом… медленно рвал в клочки мои листочки, пристально глядя мне в глаза.
-- Это все хорошо. Все правильно. Но все-таки никуда не годится! – говорил он каждый раз, легким движением руки выбрасывая в корзину под столом всю мою писанину. – Все это не то! Надо как-то по-другому посмотреть на проблему, неужели ты не понимаешь?
Я тщательно готовилась к каждой среде, перечитывая горы книг и выбирая нужные места для цитирования. Абсолютно самостоятельной в орфографии я еще не могла себя почувствовать. Я старалась не опаздывать, хотя мне приходилось делать над собой усилия, если я приходила после ночной смены из роддома. Я устроилась в роддом во втором семестре. Я решилась на это после того, как в январе меня в 30-градусный мороз высадили из автобуса номер одиннадцать на улице Постышева. У меня не было денег на проезд. Я вынуждена была пешком идти от Постышева до Чкалова, спустилась на набережную Ангары, в шубе, в валенках. Путь занял у меня ровно полтора часа туда и столько же обратно. Кроме того, я не могла пойти в студенческий буфет и купить себе хотя бы одну булочку с чаем, как это делали все мои однокурсники на перерыве между лекциями. Голодная и очень решительная, я пришла в отдел кадров городской клинической больницы номер один, учась на первом курсе. И, так как у меня не было никакого образования, кроме десяти классов средней школы, меня взяли в родильный дом, во второе инфекционное отделение ночной санитаркой. Мне выдали белую косынку, крахмальный белоснежный халат, деревянную швабру и большую серую половую тряпку. Первые смены в роддоме были страшно тяжелыми: вечерами я мыла тринадцать палат и совсем уже ночью генералила изолятор. Носила тяжелые матрацы в подвал, в жарочный шкаф и поднимала из подвала на первый этаж чистые. Я меняла белье, носила пробирки с кровью в два, а то и в три часа ночи по сырому и холодному подвалу, который шел под больницей, в основной корпус, в лабораторию. И все это происходило поздно вечером или глубокой ночью, когда все мои однокурсники давным-давно спали сном праведников. Спала я во время ночных дежурств урывками по 4-5 часов, и этих часов мне катастрофически не хватало. Спасть приходилось чаще всего в коридоре, на сквозняке, у всех на виду, на железной кровати с панцирной сеткой. Но иногда и эта кровать была занята, и я спала в кресле, свернувшись калачиком. На лекциях в университете мне больше всего хотелось А – спать и Б – есть.
И вот однажды я опоздала к Мейерову на целый час! Я пришла с ночной смены и, в буквальном смысле слова, рухнула на свою кровать. Я проспала мертвым сном часа три кряду. А потом уселась за стол писать свои дежурные двенадцать листов. И опоздала! Когда я позвонила в дверь квартиры на Аэрофлотской, меня поразила оглушительная тишина. Никто не спешил мне открывать. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появился Мейеров. Он стоял, как памятник Командору или как тень отца Гамлета, и смотрел на меня, испепеляя взглядом.
-- Ну, заходи, раз пришла! – сказал он мне. – Наверное, ты думаешь, что я целый день здесь сижу и только и жду, когда ты придешь! И заняться мне больше нечем, как ждать твою драгоценную личность! Заруби себе на носу, что приходить надо вовремя, минута в минуту, чтобы не заставлять человека вдвое старше тебя ждать, злиться и нервничать. В конце концов, наша цивилизация придумала телефон специально для таких неорганизованных личностей, как ты, которые вечно опаздывают. Сняла трубочку и сказала: «Владимир Фадеевич, извините меня, но сегодня я могу опоздать на час. Не ждите меня. Не переживайте!» И только-то! Но ты даже этого не удосужилась сделать … Конечно, где же такой важной даме, как ты, думать о каком-то там Мейерове!
Красная, как рак, я готова была немедленно провалиться сквозь землю! Я что-то мямлила и, заикаясь от волнения и стыда, оправдываясь, что у нас дома нет телефона. Но все было тщетно. Встреча прошла в «очень нервной атмосфере». Если Фадеич злился, то прийти в себя он мог не скоро. Он, как тяжелый бронепоезд, набирал скорость, катясь вниз, и для тормозного пути ему требовалось время. Зато на следующее занятие я пришла вовремя: поднимаясь по лестнице, я слышала, как радио «Маяк» отсчитывает сигналы точного времени. Было ровно три часа дня! Секунда в секунду! Дверь бесшумно отворилась, и на пороге вновь появился Фадеич. Застыв на пороге в позе Командора, он снова молчал и сверлил меня взглядом. В голове моей бешено проносился целый рой мыслей: «Я опять опоздала!!!!! У меня остановились часы, а я этого не заметила. Боже, что теперь со мною будет?» Паническую атаку прервал сам Владимир Фадеевич:
-- Точность – вежливость королей! – сказал он и жестом пригласил меня в прихожую: -- Прошу вас, королева! Вот теперь тебя хвалю я, вот теперь тебя люблю я, наконец-то ты, грязнуля, Мойдодыру угодил!
Libri – amici, libri -- magistri
В маленькой двухкомнатной квартирке Мейерова на улице Аэрофлотской было просто невообразимое количество книг. Его малогабаритная двушка в хрущовском панельном доме напоминала филиал научной библиотеки. Уму непостижимо, как удавалось моему учителю вместе с семьей существовать в этом тесном пространстве, от пола до потолка заставленном книжными полками. Впервые попав к нему в квартиру, я сразу поняла, какому богу молится мой преподаватель: книге. Сидя за своим рабочим столом, он привычным жестом доставал с полки нужный ему словарь. В комнате было настолько тесно от книг, что, в буквальном смысле слова, рукой было подать до любого тома. Это, мне кажется, очень нравилось обладателю обширной библиотеки. Мейеров чувствовал себя среди книг хозяином копей царя Соломона.
По моим наблюдениям, кроме книг Владимира Фадеевича мало что интересовало из материальных ценностей. Фадеичу, мне кажется, было абсолютно неважно, во что одеваться: он годами не снимал один и тот же видавший виды серый костюм, ходил в одних и тех же чистых и отглаженных, но совсем не модных рубашках. В руке он сжимал старый, потертый, видавший виды рыжий портфель, раздутый от бумаг, книг и рукописей. Я не помню у него ни очков в золотой оправе, ни модных белых водолазок или свитерков с оленями, ни кожаных курточек, в которых и сегодня так любят щеголять иные кандидаты всяческих наук, прельщая своим молодцеватым видом студенток. Мейеров вообще был начисто лишен мужского кокетства. Но! Надо сразу признать: его строгий костюм и свежая рубашка сидели на нем, как влитые. Он всегда был на высоте, в любой одежде. Часто он говорил нам, филологиням:
-- Вы что думаете, мужик – голова? Мужик голова, но главное – что? Шея! А шея – это кто? Это жена! От жены все зависит, от вас, милые дамы! А мужик, он что? Он прямой, как дышло. Куда повернул, туда и вышло!
Вот таким прямым, как дышло, он и был с нами, со своими студентками. В него влюблялись, о нем рассказывали истории, его имя скоро стало легендой факультета. Но его ведь и боялись все, как огня. Боже упаси позволить себе какие-то фривольные разговоры или кокетство со студентками! По крайней мере, я этого не видела никогда. Одна из студенток, учившихся на год младше нас, как-то призналась, что у нее есть мечта: нарвать полевых ромашек, прийти к Мейерову в кабинет и… поставить их в вазу, пока его нет.
-- Почему -- пока его нет, Оля? – спрашивали мы.
-- Потому что я его ужасно боюсь! – откровенно отвечала она.
Оля не была паинькой, иногда пропускала лекции, а однажды опоздала на мейеровскую пару. Она стояла под дверью и решалась войти. Мейеров же, как на зло, объяснял в тот день правило правописания приставок Пре- и При-. Подойдя к двери, он сообщил:
-- Вот я дверь ПРИ-открыл!
А за дверью в этот момент, ни жива ни мертва стоит Оля. Маленького ростика, с огромными голубыми глазами, в шубе и в валенках, в цветастом платке на голове. Мейеров тут же хватает студентку за ворот ее шубы, буквально втаскивает ее в аудиторию и громогласно заявляет:
-- Вы, Николаева, баттерфляй! Понимаете, что вы – баттерфляй? Вы -- бабочка! Ответьте мне, как на духу: ну, почему вы всегда опаздываете на мои занятия?
А в другой группе, старше нас курсом, рассказывали, как однажды Мейеров пришел в аудиторию, бросил с размаху свой портфель на стол и решительно сел на стул. А мебель у нас на факультете была старая-престарая, даже парты из года в год абитуриенты красили сами. И видавший виды стул с тонкими гнутыми ножками под ним просто разъехался. И Фадеич в полной тишине сел на пол. Потом медленно поднялся и объявил:
-- А теперь можно смеяться!
И все весело и непринужденно рассмеялись, потому что смеяться над Фадеичем без его согласия никому и в голову не пришло бы.
Так вот, главными вещами в его жизни были книги. Книги он любил, их он собирал, на них тратил свою небольшую зарплату, ими он очень гордился. Однажды он открыл мне двери с видом именинника:
-- Ты и представить себе не можешь, какую замечательную книгу подарили вчера моему внуку! – заговорщицки сказал Фадеич. – Вот, посмотри, здесь есть знаешь что? Древнерусская азбука!!!!! Аз, буки, веди, глагол, добро, како, людие, можете!!! Все буквы написаны так, как они были написаны в азбуке образца 1900 года!
И он с радостью показал мне большую книгу сказок, где по черному фону было выведено название: «Диво дивное, чудо чудное». На форзаце книжки были выведены все буквы русского алфавита, которые существовали до октябрьской революции.
-- Эта книга – просто чудо чудное! – улыбаясь, как ребенок, сказал Фадеич и с грустью добавил: -- Только прости меня, я, к моему великому сожалению, дать тебе ее не могу. Даже на один день не могу! Я ведь и сам выпросил ее у внука на несколько дней. Все-таки, это его подарок на день рождения.
Я рассмеялась. Мне вдруг на мгновение показалось, что внук-первоклассник не так радовался этой книжке, как его удивительный и замечательный дед. Для меня же чудо чудное и диво дивное было в том, что взрослый дяденька, такой солидный и такой всеобщий авторитет, как Мейеров, может так непритворно радоваться какой-то детской книжке со сказками. Пусть и с древнерусским алфавитом на форзаце. А еще однажды он мне показал книгу, которую читал каждый день и которой не мог нарадоваться.
-- Вот, смотри, эта книга должна быть твоей настольной. Автор – Паола Утевская, название «Слов драгоценные клады». Почему-то ее издали в издательстве «Детская литература», но какая же это детская литература? Я сам читаю ее каждый день и не могу от этой книги оторваться!
И Фадеич раскрыл ее на одной из страниц и зачитал мне: «В греческом языке имеется слово ХРОНОС, оно означает время. От него происходит название распространенных в средневековье записей исторических событий, одна из форм летописей – ХРОНИКИ. Составителей хроник называют ХРОНИСТАМИ». Мне кажется, я сейчас именно этим и занимаюсь – хрониками нашего студенческого времени. А потом зачитал мне один из отрывков о Франсуа Шампольоне…Надо сказать, что я несколько лет искала эту книгу в магазинах и, наконец-то, приобрела в одной букинистической лавочке. Эта книга для меня – как привет от Фадеича из моей далекой голодной и счастливой юности.
Искренняя любовь к книге вызывала у меня какое-то теплое чувство. Ведь и у нас в доме тоже покупали книги охотнее, чем какие-то предметы быта. Хорошая книга долгое время считалась в семье самым удачным приобретением. Я помню, что каждое лето я летала на самолете рейсом 7274 в Киев, к своей бабушке. И очень любила ходить на Украине в книжные магазины. Меня просто поражало, что в каком-нибудь провинциальном Хмельницком можно было запросто купить «Рассуждения о божественной литургии» Николая Васильевича Гоголя или стихи и прозу Марины Цветаевой. Я везла домой через семь тысяч километров томик Гумилева и письма Бориса Пастернака. А следом за мной по железной дороге отправлялся контейнер с книгами – полное собрание сочинений Льва Толстого, Антона Чехова и Александра Куприна. А еще я там купила собрание сочинений Антона Макаренко, потому что работала в педотряде «Контакт» и серьезно увлекалась педагогикой. Это моя бабушка, директор сельской школы, преподаватель русского языка и литературы, старалась помочь мне перевезти книги, купленные на Украине по разным книжным магазинчикам. Прозу Сергея Долатова, Саши Черного, Михаила Зощенко и Михаила Булгакова я тоже впервые купила в Хмельницком. Сумасшедшая любовь к книге еще больше сблизила меня с моим учителем. Только я любила художественную, а он – научную литературу.
-- Ты знаешь, я долго думал, что бы я мог тебе подарить без ущерба для своей библиотеки? – стоя у книжных полок, как настоящий Скрудж, как-то признался мне Фадеич. – И вот нашел словарь, который у меня есть в двух экземплярах. Со спокойной совестью я один могу подарить тебе.
И он протянул мне маленькую красную книжицу в твердом переплете, на обложке которой красовалась золотая надпись: «Слитно или раздельно?» Я хотела бы попросить о памятной надписи, но постеснялась. А теперь жалею. Хотя эта книга и сейчас для меня – как память о моем дорогом учителе.
А еще я помню, как заявила ему однажды, что русскую орфографию необходимо…реформировать. Что там много несообразностей, с которыми я категорически не согласна.
-- Например, почему-то Дальневосточная улица, на которой я живу, пишется слитно, а юго-восточный ветер -- через дефис. Где логика? Видите ли, одно слово образовано от словосочетания «Дальний Восток», а другое – от «юг» и «восток». Почему бы не ввести одинаковое правописание и не забивать школьникам головы этим бессмысленными правилами? Ведь, по сути, нам все равно, от чего эти слова были когда-то образованы.
-- Ну, знаешь! В русской орфографии все правильно, все выверено, все встроено в стройную систему правил и имеет глубочайший смысл. Твоей настольной книгой должен быть Розенталь! Да-да, Розенталь! И вообще, смотрю я, вы у нас выходите из университета какими-то недоделанными, -- возмущался Мейеров. – Что еще ты хочешь реформировать?
-- А вот почему это без приставки слово может быть отглагольным прилагательным, а с приставкой вдруг кардинально меняет свои морфологические признаки и становится вдруг причастием? Почему бы не отнести отглагольные прилагательные к причастиям, ведь смысловая граница между ними такая тонкая! Школьнику точно не понять этого! -- не унималась я.
Мейеров кипятился, возмущался и твердо стоял на том, что никакие реформы современной русской орфографии не нужны. По крайней мере, в том виде, в каком видела их я, Фадеич их не признавал. Мне хотелось все правила русской орфографии предельно упростить. Например, как-то «причесать» правописание наречий. И сейчас, честно признаюсь, мне иногда хочется это сделать. Мы спорили с ним просто до хрипоты, и он, протянув руку, доставал мне с полки Розенталя или Шахматова, открывал словарь Даля или Ушакова, ссылался на Ожегова или Виноградова. Я в такие моменты остро понимала, что мир Мейерова так наполнен идеями живых или уже ушедших от нас лингвистов, что они ежедневно заполняют все пространство его мироощущения. Он с ними спорил, соглашался, он вел с ними беседы, они стали полноправными жителями его Вселенной. Как для Эразма Роттердамского, книги были лучшими друзьями и самыми умными собеседниками, так и для Мейерова книги стали теми самыми жизненными вехами, по которым он сверял свой собственный путь. И книги эти были, в основном, научного направления. По крайней мере, к художественной литературе такой тяги у преподавателя я не заметила. Или он со мной просто не делился этим? Но в людях он разбирался с точностью опытного хирурга.
И еще меня поражало, как он готовил к печати свои собственные рукописи. В 1980-х он выпустил одну за другой несколько методичек. И я застала работу над ними. Он читал напечатанные тексты, что-то от руки дописывал. Причем, к небрежно написанным его рукой словам сверху красной ручкой он приписывал недостающие хвостики и окончания. Я поняла – это для корректора и редактора. И я очень хорошо помню, как он мне выговаривал:
-- Почерк у меня ужасный, между прочим, ничуть не лучше твоего. Но я уважаю человека, который будет читать мои каракули. Поэтому обычно заново прохожу весь текст, дописывая хвостики и кончики букв, чтобы К не была похожа на Н, а Т отличалась от Ш и так далее. Ты же почему-то не считаешь нужным писать разборчиво.
Дипломная работа
Каким-то чудом, но мне все-таки удалось понять, чего хочет от меня преподаватель. Задача была передо мной поставлена достаточно сложная. Мне необходимо было взять курс школьного учебника русского языка – все учебники с 5 по 10-й классы (благо, в 1998 году не было такого разнообразия школьных программ, как сегодня). Проштудировать их и выписать на карточки все упражнения с фонетическими разборами, затем – с разбором слова по составу, с морфологическими разборами. А потом…. А потом на основе этих упражнений составить свою собственную систему упражнений, которые были бы накрепко связаны одной идеей: каждое слово – это неделимая система. Постепенно двигаясь от звуко-буквенного разбора до морфологического, школьник должен был пройти через систему упражнений. Он должен был понять, что единый разбор препарирует слово, показывая его звуковую оболочку, его лексическое значение, его роль в предложении. По замыслу Мейерова, ребенок должен был увидеть всю многослойность русского слова, восхититься его красотой, понять, насколько могучим и сильным может быть оно. Школьник должен был словно под лупой рассмотреть слово и понять, из чего оно состоит, как оно живет в речи. И в этом ему должна была помочь моя система разборов, которой, кстати, пока еще не было в природе.
Идея мне очень понравилась! Я поняла, что жестоко ошибалась, считая орфографию сухой и скучной наукой, где все уже давным-давно открыто. Оказывается, здесь еще можно было сказать какое-то свое, новое слово. И главное, -- моя цель, моя научная задача была просто прекрасной! Я не просто писала эту работу ради того, чтобы она осталась на бумаге. Я могла бы помочь детям в изучении русского языка. Надо сказать, что почти два года работа моя двигалась очень быстро. Я легко сделала карточки, выписав существующие упражнения из школьного курса русского языка. Легко проанализировала их. И очень быстро приступила к созданию своей собственной системы упражнений и к своему анализу слова. И тут вдруг работа забуксовала. Мейеров изо дня в день рвал все мои 12 исписанных листов и смотрел на меня, как Ленин на буржуазию. Как солдат на вошь. Я что-то мямлила поначалу, потом даже говорить перестала. Казалось, я онемела навсегда. И однажды Мейеров не выдержал:
-- Знаешь что? Ты – дура!
-- Я знаю, -- тихо ответила я.
Из болота тащить бегемота…
Понимать-то я понимала, что мне нужно делать. Но до конца уразуметь, чего хочет от меня Мейеров, я никак не могла. Главное, что он и сам, по всей видимости, этого не знал. Его научные сомнения, его колебания, мучительный поиск новых путей в науке накрыли меня с головой, как накрывает песчаный пляж цунами. Как аист глотает лягушку. Мне было не просто трудно дышать. Мне было невыносимо чувствовать на себе его придирчивый, испытующий и откровенно уничижительный взгляд. От стыда я готова была провалиться сквозь землю! Я не могла написать ничего толкового. Но и уйти от Мейерова я тоже не могла -- я не видела равноценной замены. Если со мной не смог справиться сам Мейеров, кто же сможет? Уж лучше бросить университет! Я опять скрепя сердце бралась за работу, и он снова рвал мою писанину, раздраженно бросая клочки бумаги в пластмассовую урну, которая стояла под столом.
Я была в отчаянии. Но все же не теряла надежды, что скоро все изменится, он найдет какой-то выход, и работа пойдет на лад. Я как будто бы пыталась выбраться из глубочайшей ямы, но шел проливной дождь, края ямы стали скользкими, руки мои то и дело соскальзывали, и я снова падала вниз. Наступил момент, когда терпение лопнуло и у меня.
-- Владимир Фадеевич, -- сказала я, чуть не плача. – Почему вы меня так не любите? Я уже не могу к вам приходить, как прежде, потому что уверена: вы меня ненавидите. Вы со мной разговариваете едко, ехидно даже. Да, я признаю, что у меня нет большого ума и я не гений. Но я все-таки не понимаю, что же мне делать дальше? Работа написана на две трети. Осталась только последняя глава и заключение. Но дальше двигаться вы мне совсем не даете. Вы бьете меня по рукам! Я стараюсь, пишу, а вы все выбрасываете в мусорную корзину. Вы чего-то хотите от меня, а чего именно -- я не понимаю… Вы просто скажите мне: «Уходи!» И я уйду.
Повисла тяжелая пауза. Владимир Фадеевич посмотрел на меня какими-то другими глазами, в одно неуловимое мгновение они изменили свой цвет, лицо его прояснилось. Главное – в глазах уже не было ненависти и презрения, а было какое-то новое, незнакомое мне чувство. Я понимала, что сейчас в его мыслях идет какая-то сложная работа, идет полное переосмысление ситуации. И я была вполне готова к тому, что вот сейчас он скажет мне строго: «Уходи!» Я была готова к самому худшему. Вдруг Фадеич негромко сказал:
-- Знаешь, есть такая старая русская пословица: «Люби, как душу, тряси, как грушу». Вот у нас с тобой сейчас такая ситуация. Я тебя люблю всей душой, а тебе почему-то кажется, что я тебя ненавижу. Извини, я, кажется, перегнул палку. Но с твоей дипломной работой мы действительно зашли в тупик. И я не знаю, куда нам двигаться дальше. У тебя есть какие-то предложения?
Я подумала и сказала:
-- Мне кажется, все груши с моего дерева вы уже отрясли. Больше трясти нечего. Да, у меня есть свое предложение, как выбраться из этого дурацкого болота. Я хочу, чтобы вы мне поверили в последний раз. Я ведь уже взрослый человек! Пожалуйста, отпустите меня в самостоятельное плавание. Я сама допишу свою работу. Осталось ведь совсем чуть-чуть! Я знаю, как это сделать. Я допишу и принесу вам готовый диплом 30 апреля. Если он будет негоден, то останется месяц на переписывание. Я справлюсь! Поверьте мне…. Пожалуйста!
Фадеич долго молчал, подрагивала его правая нога (он волновался), он буравил меня своими глазами и смотрел на меня так, как будто впервые видел. Мне реально показалось, что я умерла когда-то давно, еще в Древнем Египте. И вот бог Анубис с собачьей головой наклонился на моим телом, сделал надрез и вынул мое окровавленное сердце. А потом положил на одну чашу весов мое бедное затравленное сердечко, на другую – страусиное перо. И вот я жду, что же перетянет?
-- Хорошо, -- наконец изрек Мейеров, – будь по-твоему. Но если ты опоздаешь хотя бы на день – пеняй на себя!
Я летела домой как на крыльях. Ура! Я теперь смогу все сделать так, как хочу сама. И я сделаю – что там осталось-то? Сущие пустяки…. За месяц я переписала свой диплом набело, написала введение и заключение и вуаля! Утром 30 апреля я уже была в доме у Фадеича. Как штык! Сердце мое билось так, что готово было вырваться из грудной клетки. Фадеич смотрел на меня несколько презрительно. Взяв мою работу в левую руку, он правой указывал на нее, как на живое существо, и строго спрашивал меня:
-- Ну, и что ЭТО? Вот ЭТО? Это можно отдать рецензенту или сразу можно выбросить в мусорную корзину целиком, не читая?
Я набралась смелости и сказала:
-- Давайте попробуем все-таки сначала отдать рецензенту. Выбросить мою работу в мусор вы сможете всегда.
Веселится и ликует весь народ!
-- Хорошо, -- наконец смилостивился Фадеич. Но в голосе его звучал металл: -- Вот тебе адрес и телефон Киры Борисовны Воронцовой, она и будет твоим рецензентом. Позвони ей, вежливо попроси ее быть твоим рецензентом. И, каков бы ни был ее вердикт, ты мне сразу о нем сообщишь. Договорились?
-- Конечно! – сказала я с облегчением и забрала свой труд.
… Спустя сутки я постучалась в дверь квартиры Киры Борисовны Воронцовой. Жила наша уважаемая преподавательница русского языка на конечной остановке в микрорайоне Юбилейный, в обычной панельной пятиэтажке, в уютной, сияющей чистотой двухкомнатной квартире. К слову, Воронцову мы, студенты, боялись на факультете точно так же, как и Мейерова. Она прекрасно знала свой предмет и не церемонилась с лентяями и прогульщиками. Получить у нее четверку считали за счастье даже отличники! Обычной, самой расхожей оценкой на ее экзамене была тройка. Едва завидев ее статную фигуру в конце коридора, студентки робко жались к стеночкам, пропуская строгую преподавательницу. И вот теперь я стояла у ее двери, как на краю пропасти. Одно ее слово могло решить мою судьбу. Одобрит она – и я спасена! Зарубит мою работу – и мне конец. Вскоре двери открыла прекрасная хозяйка: не было в лице никакого намека на строгость и суровость. Вместе с ней выбежали в прихожую две собачки, той-терьерчики. Выплясывая на своих тонких ножках, как малыши-оленята, они побежали в солнечную комнату, где в шкафу лежали их игрушки – резиновые мячики. Строгая Кира Борисовна, к моему изумлению, вдруг превратилась в любящую мамочку. Она вынула мячики и стала бросать собачкам, на ходу предлагая мне чаю.
-- Не стесняйся и ничего не бойся! – сказала мне она. – Садись, выпьем с тобой по чашечке.
Мы мирно выпили по чашке чая, и я стала собираться домой… Собачки провожали меня, как лучшего друга (мы с ними еще успели поиграть в мячики!). Через три дня я снова позвонила в ее дверь.
-- Ну, Оксана! Ну, разве же так можно??? – встретила меня Кира Борисовна.
Если бы мне было лет на тридцать больше, меня бы тут же хватил инфаркт. Сердце просто разорвалось бы на клочки! Но мне было всего лишь двадцать. И я стойко выдержала этот удар. Я сразу поняла: Мейеров был прав -- все пропало! Работа моя никуда не годится!
-- Ты знаешь, это ведь такой сумасшедший труд! – продолжала Кира Борисовна, стоя ко мне спиной в привычной вязаной шали и разбирая мои бумаги, не глядя на меня и не замечая моего тревожного состояния. – Ведь у тебя три отдельных дипломных работы под одной обложкой. Это просто адский труд! Гигантский! Как же ты смогла все это перелопатить? Когда ты успела это все осмыслить и написать?
-- Вы же знаете, кто был моим научным руководителем. Мейеров! Это целиком и полностью его заслуга, -- сказала я.
-- Ну, не знаю, это просто издевательство какое-то над дипломницей! Издевательство! И как ты все это выдержала?... Почему не сказала ему – все, хватит, я больше так не могу? Не понимаю! Так и передай Владимиру Фадеевичу – скажи, что тут три законченные дипломные работы в одной. Она и по объему гигантская! После введения смело ставь точку – и одна работа готова. После второй главы ставь точку – еще одна работа. И в конце ставь точку – это третья дипломная работа. Как хочешь, но ты мне просто обязана подарить один экземпляр! Просто обязана! У меня должен быть экземпляр твоей работы, так и передай Мейерову.
Когда я пересказала этот разговор Владимиру Фадеевичу, он ответил, как отрезал:
-- Этого не может быть! Ты просто все не так поняла и еще приукрашиваешь!
-- Позвоните Кире Борисовне, и она сама вам все это скажет, -- торжествуя в душе, ответила я. Мое сердце ликовало! Ура! Я победила! Я смогла дописать работу, я смогла доказать Мейерову, что я не такая уж совсем беспросветная, как он обо мне думает. Фадеич дал мне последние распоряжения: сказал, где, в какой типографии мне нужно это все напечатать, рассказал, как написать краткое выступление по дипломной работе. Просто с ума сойти: в какие-то 15 минут я должна была уместить труд трех полных лет! Эта задача казалась мне неподъемной. Но все же это было легче, чем написать все заново, что мне пришлось бы сделать, если бы отзыв Киры Борисовны был отрицательным!). Я чувствовала, что Мейеров внутренне напряжен, он сжат, как пружина, собран в кулак, и он… он мне не верит! Он не верит даже Кире Борисовне. Он не верит никому.
-- Пока я не услышу твоей защиты, я не поверю в то, что твоя работа чего-то стоит, -- сказал мне напоследок Фадеич. И я почувствовала, что это правда.
… И вот настал день защиты диплома. За столом сидела уважаемая комиссия – мужчины в строгих костюмах, женщины в деловых платьях. С радостью я увидела среди всех мою любимую Киру Борисовну – удивительно, но она мне ободряюще улыбнулась! И от сердца отлегло.
Мейеров в новом сером костюме сидел у самого окна, правая нога его мелко подрагивала – яркий признак беспокойства. Хотя, когда я с ним поздоровалась, он сухо кивнул мне и на лице его дрогнул ни один мускул. Очки поблескивали на солнце, скрывая истинное выражение его лица. Он сидел ко мне в профиль, я не могла понять, что он думает, так как не видела выражения его глаз. И это было как нельзя кстати! Мне и так не хватало уверенности, и если бы я еще почувствовала неуверенность Фадеича, я бы просто блеяла на защите, как овечка. Наконец, меня вызвали на кафедру. Стараясь вообще не смотреть на Мейерова, я четко и ясно изложила суть своей работы. Рассказала, какую гигантскую работу мне пришлось проделать со школьными учебниками, как я создавала свою собственную систему упражнений и как мы вместе с Фадеичем пришли к идее единого словарного разбора. Я от души поблагодарила своего научного руководителя (хотя, признаюсь, боялась даже смотреть в его сторону), своих преподавателей. В ответном слове Кира Борисовна Воронцова расхвалила мою работу и предложила поставить мне отлично, да еще и с плюсом! А еще предложила представить мою дипломную работу на всероссийский конкурс студенческих научных работ. Тут все стали поздравлять Владимира Фадеевича с удачной защитой и даже стали аплодировать ему стоя. И только в этот миг я увидела на его лице улыбку. Впервые за три года! Фадеич наконец-то поверил, что моя работа чего-то стоит! Он улыбался! Это было дороже отличной оценки. Это было дороже всего на свете! Мой любимый учитель улыбался! Веселится и ликует весь народ!
-- Владимир Фадеевич, я вас поздравляю, это ваша победа, -- сказала я ему, улыбаясь сквозь набежавшие слезы и протягивая ему большой букет чайных роз.
-- Зачем ты купила мне такие дорогие розы? – пристально глядя мне в глаза, недоумевал Фадеич.
-- Я ведь снова вернулась в роддом, хотя вы мне и запретили. Это было мне необходимо, чтобы дисциплинировать себя, чтобы собраться с мыслями, -- призналась я. – Если бы не моя работа, я бы вообще не смогла ничего написать.
Фадеич обнял меня, и впервые за три года огромный камень свалился с моей души. Дипломница, которая шла вслед за мной, Таня Кощеева, как-то рассказала мне, что Мейеров положил перед ней мой диплом и сказал: «Вот, Таня! Этот диплом должен на эти три года стать твоей настольной книгой!» Теперь я не поверила ее рассказу, как когда-то Мееров не поверил отзыву Киры Борисовны. А еще я вспомнила, как он говорил о своих дипломниках: «Надоели они мне хуже горькой редьки!» Я, наверное, была самой горькой редькой из всех.
Последняя встреча

Однажды мы с Владимиром Фадеевичем вместе оказались на центральном рынке. Я не помню, как это произошло, но Фадеич вдруг мне предложил: «Хочешь, я покажу тебе дом, где я родился и жил в детские и юношеские годы?» Конечно, от предложения пройтись по городу вместе с Фадеичем я не могла отказаться. Такие минуты редко случаются в нашей жизни.
И мы отправились вдоль улицы Тимирязева по направлению к автовокзалу. Потом свернули на одну из боковых улочек, ведущих вверх, к 1-й Советской. Там и стоял слева от дороги среди пятиэтажек тот красивый, резной, деревянный двухэтажный дом, в котором жила семья Мейеровых. По дороге учитель рассказывал мне о себе, о своей семье. Он много тогда рассказывал, но я, не чуя ног под собой, была просто безумно рада, что мой дорогой преподаватель идет со мной рядом, что он мне доверяет какие-то личные тайны. И от безудержного счастья, переполнявшего меня, я запомнила только то, что меня несказанно удивило:
-- Мой отец был скорняком, -- сказал Фадеич. – Он шил шубы и шапки. Очень хорошо шил, лучше, чем на фабрике. У него было всегда много заказов. Иногда люди даже очередь занимали, чтобы именно он сшил им шубу или шапку.
Мне почему-то всегда казалось, что родители Мейерова должны были бы быть очень образованными и интеллигентными людьми. Скорее всего, так и было. Не мог такой неординарный ум, такой мощнейший интеллект возникнуть просто так, на пустом месте. Могу предположить, что его предки были людьми верующими. Я твердо уверена в том, что вера в Бога дисциплинирует душу, развивает ум и все способности человека. Коротко говоря, все предыдущие поколения Мейеровых приготовили ту почву, на которую упало зерно, из которого в свое время появился такой удивительный человек.
В нашей стране постоянно происходят разрушительные революции, идут кровопролитные войны, время от времени меняется сам социальный строй, а человек, как обычно, приспосабливается ко всему.
Его отец, Фадей Мейеров, вынужден был кормить семью, поэтому и выбрал для себя самое сложное, но хорошо оплачиваемое ремесло. И он стал лучшим мастером в своем деле! Стремление стать самым лучшим в своем деле он сумел передать своим детям и внукам. Точно таким же путем пошел и Мейеров. Ему не дали защититься, у него была всего лишь должность старшего преподавателя. Но Владимир Фадеевич так знал свой предмет, так умел преподать его, что был без всякого преувеличения ЛУЧШИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ на филологическом факультете. Бескорыстие, чистота души, огромное желание передать свои знания другим сделали его живой легендой филологического факультета.
… Уже после смерти моего дорого Фадеича мне снился сон, в котором мы снова шли к тому деревянному дому с резными наличниками, где он родился. По тем самым улицам, по которым мы проходили в ту осень. Почему-то я отчетливо помню деревянные тротуары, девушек в белых носочках, босоножках и летних платьях, парней с гармонями. Было такое ощущение, что мы идем по Иркутску 1950-х годов. Я ненароком посмотрела на своего спутника и увидела, что ему, оказывается, никак не больше тридцати лет. Высокий, статный юноша с густой шевелюрой волос, он мне показался настоящим красавцем. Таким Фадеича в жизни я никогда не видела. Но во сне я была уверена, что этот молодой мужчина – и есть мой преподаватель.
… Сегодня я могу с уверенностью сказать, что все, что есть во мне лучшего, все мои знания, все мои стремления, все мои убеждения, в той или иной мере, были рождены им или сформировались во мне под его влиянием. Я купила в Москве небольшую книжку – «Дмитрий Кедрин». Пусть ее никогда не дарил мне Фадеич, но поэму «Зодчие» я считаю его любимым произведением, поэтому выучила наизусть. Мне дорого все, что он любил, к чему прикасался его ум. Мне просто очень тяжело без него. Та пустота, которая образовалась в моей душе после его смерти, не может заполниться ничем. Но я все же верю, что, как в песне, ничто на земле не проходит бесследно. Не может такой великий ум, такая широкая душа, такое большое сердце уйти и забыться. Пока мы живы, мы будем о нем помнить. Мы будем жить так, как этого хотел он.
… Самая последняя наша встреча состоялась в июне 1995 года. Владимир Фадеевич строго-настрого наказал мне привести к нему человека, за которого я буду выходить замуж. Мы с моим будущим мужем подали заявление в ЗАГС, шли по улице Ленина, и я вдруг вспомнила свое давнее обещание и решила зайти к Фадеичу. Сотовых телефонов у нас еще не было тогда. Но мой учитель, к счастью, оказался дома. Он пристально посмотрел на моего жениха. Задал ему несколько вопросов. Потом стал думать. За те три года, когда я писала научную работу под руководством Фадеича, я научилась читать по его лицу, как глухонемые читают по губам. Я видела, что Мейеров не очень доволен моим выбором, точнее – очень недоволен, но он изо всех сил сдерживает себя, чтобы не сказать мне об этом. Ведь на моем глупом от счастья лице сияла улыбка. Любовь – это ведь такое легкое безумие, она ничего не видит и не понимает. И Фадеич с высоты своего жизненного опыта вошел в мое состояние, понял, что его слова повиснут в воздухе и не достигнут цели. Так зачем ему что-то говорить? Тогда он обратился к моему будущему мужу:
-- Молодой человек! Вы должны всю жизнь носить ее на руках. Вы слышите меня? Всю свою жизнь вы должны носить ее на руках…
… Это были последние слова, которые я слышала от своего учителя. Я не могла даже предположить, что эта встреча -- последняя. Больше мы уже никогда не виделись. Но я верю в то, что когда-нибудь мы встретимся.