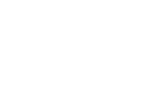Кашевский Валерий Иосифович

Открыто-загадочный и загадочно-открытый…
Человека, которого предстоит увидеть впервые, я иногда пытаюсь вообразить по звуковым ассоциациям с его именем, если звук сам «просится» в картинку. Понимаю, что это, мягко говоря, странно, но так уж устроено мое филологическое эго.
Ожидая звонка на нужную мне пару, я пробовала представить себе Валерия Иосифовича Кашевского, будущего коллегу по кафедре, с которым у нас совпадали часы занятий в факультетском расписании. В его имени было что-то необычное, в нем как будто слилось несколько магических мелодий: грассирование гальки, старательно обтачиваемой морем, шелест листьев под осенним ветром, ласковое скольжение шелка. Все вместе было странно гармоничным, однако совмещение несовместимого мешало нарисовать хотя бы примерный портрет незнакомца.
Удивительно, но тогдашняя звуковая игра в образ как будто предопределила мое отношение к этому ни на кого не похожему человеку: Валерий Иосифович был и остался для меня хорошо узнаваемым, но так и не узнанным, ожидаемо-понятным, но так и не понятым.
В первую нашу встречу, не оставив времени на этикетные неловкости и расшаркивания, он сказал, что у нас есть общий знакомый – Виталий Сидорченко. А поскольку с Виталием Петровичем, другом и бывшим сокурсником Валерия Иосифовича, меня связывал многолетний интерес к истории Иркутска, к старинной сибирской книге, то доброе отношение к старому знакомому само собой перешло на нового коллегу. Человек, которого несколько минут назад не могла себе представить, чудесным образом занял вполне определенное место в моей прошлой, совершенно незнакомой ему жизни.
Валерий Иосифович всегда казался мне и загадочным, и открытым одновременно. Как можно совместить две противоположных оценки в характеристике одного и того же человека, до сих пор не могу объяснить. Сложно организованная натура, многое переживший и понявший человек, он органично умел быть абсолютно разным: отстраненным, но мгновенно откликающимся на брошенную реплику; сосредоточенно-замкнутым, но легко выбирающимся из личного пространства, если кому-то срочно требовались его помощь, совет, участие.
В нем было непривычное сочетание внешней мягкости, подчеркнутой интеллигентности и внутренней твердости, независимости в суждениях и оценках. Он был трогательно незащищен, самоироничен, но в критические моменты кафедрального существования напоминал отважного рыцаря, готового броситься на защиту чужих интересов, прекрасно понимая, чем это грозит его преподавательской карьере, пребыванию на кафедре.
Он был очень хорошим психологом, чувствовал сложное душевное состояние и никогда не надоедал ненужными расспросами. Зато если «камертон» хорошего настроения совпадал, он вдруг начисто лишался возраста, рассказывал случаи из собственной педагогической практики, отпускал удачные остроты по поводу нынешней языковой ситуации.
Он обладал блестящим филологическим чутьем. Замечательные семейные корни давали о себе знать, когда дело касалось мгновенной реакции на лингвистические коллизии. Вспоминаю анекдотический случай: вхожу на перемене в аудиторию 207 и, не в силах сдержать эмоции по поводу дурных запахов из туалетной комнаты, в сердцах замечаю, что вонизмы нынче стоят отменные. На что на самых низких тонах Кашевский глубокомысленно заявляет: «Да уж, не до эвфемизмов!»
Мне очень нравились его суждения о студентах. О многих он говорил с особой теплотой и даже родительской нежностью. Многими гордился, будучи совершенно уверенным в их удачной профессиональной судьбе. Нравилось видеть, как при этом менялось, становилось одухотворенным и светлым его лицо… Помню, как он был доволен, когда совпали наши впечатления о студенческих работах, поданных на профессиональный творческий конкурс «Продвижение». Тогда оказались одинаковыми не просто общие впечатления от текстов, полностью сошлись наши «списки» претендентов на студенческий «пьедестал почета». Вместо того чтобы уйти домой после нескольких пар занятий, мы больше часа обсуждали языковые и стилистические тонкости и «толстости» текстов Саши Поблинковой, Полины Лаптевой, Жени Панкратовой, Алины Яковлевой. За окном было темно, шел снег, а мы все подливали друг другу чай, чтобы совсем не окоченеть (в преподавательской тогда не было пластиковых окон, и мороз, презрев двойные деревянные рамы, пробирал до костей).
Кашевский всегда старался быть галантным, но при этом как-то по-мальчишески смущался самых обыкновенных проявлений внимания, когда накидывал пальто на плечи или помогал победить заевшую «молнию» на куртке.
На юбилее в честь 70-летия Валерия Иосифовича было особенно приятно сказать этому человеку о том, что отличало его от других. О его уверенном достоинстве, о крепости и силе характера, о трепетном отношении к хрупкой и мощной русской речи. Наконец о том, что стареть рядом с ним, таким живым и полным сил, совсем не страшно.
Он жил так, как позволяют себе жить немногие – с глубокой заботой о родных и близких людях, с любовью к чужим взрослым детям, которых мы называем студентами. Он благодарил за то, за что благодарить нынче не принято – за доброе к себе отношение, за теплые слова в свой адрес.
Он никогда не был абсолютно понятен, не был известен наперед, не был похож на кого-то другого. Необычным было его имя. Отличной от других была творческая судьба. Непохожей на чью-то другую была его личная жизнь. Не схож ни с каким другим и самый конец этой жизни.
Т. Д. Романцова (Литера. Вестник факультета филологии и журналистики Иркутского государственного университета. – Выпуск 4. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2012. – С. 20 – 23)